Московская Сретенская Духовная Академия
Исихазм как предмет исследований С. С. Хоружего: философская методология и аскетическая методология
10 июля 2025
Исихазм как предмет исследований С. С. Хоружего: философская методология и аскетическая методология
Источник: Богослов.ru
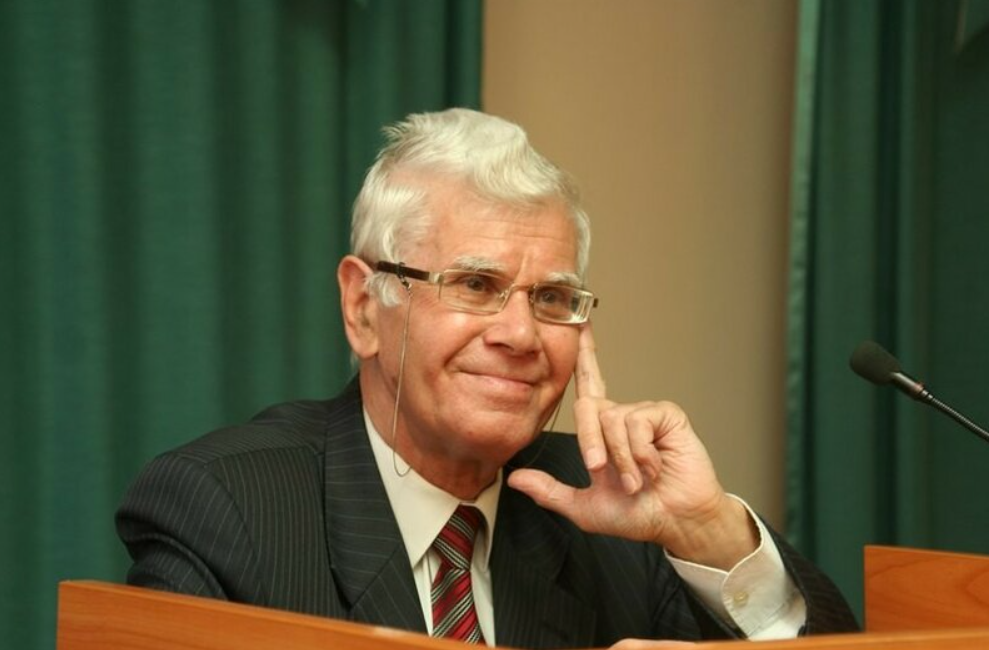
Аннотация. Анализируются труды С. С. Хоружего, на основе которых в 1990-е гг. сформировалась научная школа синергийной антропологии с ее исследованиями исихастской религиозности. Отмечается, что данная школа творчески продолжила традиции русской религиозной философии, в частности А. Ф. Лосева, и С. С. Хоружий в исследованиях творчески использовал методологический инструментарий феноменологической философии. Утверждается, что синергийная антропология обнаруживала в исихазме антропологические концепты, выявляя и вводя в пространство философской мысли ряд аспектов из методологии исихастской аскетики. Показано, что отдельные аспекты не являются специфическими для исихазма, они свойственны и нехристианским духовным практикам: соматические условия опыта, связанные с практикой поста и других форм воздержания; тотальная борьба с рассеянным образом жизни, акцент на особой роли внимания; приоритет аскетического опыта, для интерпретации которого могут использоваться элементы философского дискурса. Особая задача видится в том, чтобы обозначить методологически значимые условия, специфические для исихастской аскезы, — это условия хранения ума и сердца (опыт исихии, опыт сведения ума в сердце); условия диалога (опыт «безвидной молитвы»); условия профилактики и борьбы с прелестью и ложной духовностью (все, что относится к верификации мистико-аскетического опыта). Делается вывод, что приведенные философско-методологические разработки синергийной антропологии носят новаторский характер и сохраняют научную актуальность.
Введение
В середине 1970-х гг. отечественными учеными были начаты антропологические исследования, по-своему продолжавшие линию русской религиозной философии. Строились они вокруг изучения исихазма[1]— феномена, связанного с мистико-аскетическим опытом православных подвижников-безмолвников. Проводились исследования неофициально; их инициатором был доктор физико-математических наук, философ и антрополог С. С. Хоружий (1942–2020). В его работе периодически участвовали другие ученые, в частности философ и переводчик В. В. Бибихин.
Обратим внимание на то, что В. В. Бибихин много общался с выдающимся представителем русской религиозной философии А. Ф. Лосевым. Хоружий был хорошо знаком с публикациями Лосева и ценил его «арьергардные бои» на философском фронте. Хоружего и Лосева сближал общий интерес к феноменологии, к тем методологическим ресурсам, которые давала мысль Э. Гуссерля. Еще в 1920-е гг. Лосев дал свою философскую трактовку воззрениям исихаста Григория Паламы (стоявшего у истоков богословия нетварных энергий). Лосев обосновывал с помощью неоплатонической философии примыкающий к исихазму дискурс имяславия[2]. Исихастское понятие об энергии А. Ф. Лосев сближал с понятием энтелехии. Бибихин в целом разделял такую интерпретацию энергии (подобным образом понимал энергию и М. Хайдеггер). Хоружий придерживался иной трактовки, он отождествлял понятие энергии с понятием δύναμις (возможность, сила)[3]. Таким образом, антропологические исследования исихазма, которые предпринимал С. С. Хоружий, строились в творческом диалоге с религиозной философией А. Ф. Лосева, с философской мыслью Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, П. Адо[4].
В качестве предмета данной статьи мы рассматриваем методологический инструментарий, который применял С. С. Хоружий при исследованиях методов, использующихся в исихастской аскетике. Объектом статьи является синергийная антропология как научная школа, осуществляющая междисциплинарные философско-теологические исследования духовных практик (исихастской, дзен-буддийской и др.). Данная статья предлагает решение следующих задач: 1) проследить и осмыслить различные этапы религиозно-философского изучения исихазма профессором Хоружим; 2) проанализировать по научным работам Хоружего все, что относится к выявлению методологии исихастской аскетики.
В 1970-е гг. Хоружего интересовала не только логика исихастской мысли, он тщательно анализировал корпус исихастских текстов, через который нашел свое выражение аскетико-антропологический опыт исихастов. В частности, его интересовали опубликованные в середине XX в. «Триады в защиту святых исихастов», написанные святителем Григорием Паламой как апология исихастского опыта и как своеобразная реплика на Плотиновы «Эннеады». Видимо, под влиянием С. С. Хоружего «Триады» были переведены В. В. Бибихиным (для Бибихина паламизм не был близок). «Триады» и сопутствующие им тексты Хоружий и Бибихин подготовили к публикации, однако по внешним причинам тексты «положили на полку». Но это не остановило исследования, Хоружий продолжил трудиться и в 1978 г. завершил работу над философско-богословской книгой «Диптих безмолвия». Вышла книга в самиздате, лишь в 1991 г. ее удалось опубликовать официально[5]. «Диптих безмолвия» выстраивал междисциплинарный антропологический дискурс с опорой на описания аскетического опыта безмолвия и в диалоге с философскими разработками М. Хайдеггера. Добавим к сказанному, что и до работ С. С. Хоружего отдельные исследования порой развивались в соотнесенности с философией Хайдеггера и с исихастским богословием. Яркий пример тому дал Г. У. фон Бальтазар; в богословско-философской монографии Kosmische Liturgie («Вселенская литургия», 1941 г.) он обращался к исихасту Максиму Исповеднику и философу М. Хайдеггеру, рассуждая о существовании/сущности и сложной ипостаси Христа[6].
Антропологические и философско-методологические исследования исихазма
Исследования по исихазму вышли на новый уровень в годы возрождения российской религиозной жизни и мысли. Под редакцией Хоружего в 1995 г. вышла коллективная монография «Синергия», здесь помещался «Аналитический словарь исихастской антропологии»[7]. Через «Словарь» Хоружий решал задачу, как представить исихастскую аскезу антропологической стратегией. Название книги «Аналитический словарь» указывает на диалог Хоружего с Хайдеггером, с его аналитикой Dasein (присутствия, Da-sein, здесь-бытия[8])[9]. В «Аналитическом словаре исихастской антропологии» нет аналитики Dasein, есть другое — аналитика человека исихастского, аналитика трансцендирования здесь-бытия, «обналичиваемого бытия-действия». Подобная аналитика рассуждает о «превосхождении фундаментальных предикатов наличного бытия»[10]. Наличное бытие и эмпирическое бытие в данном случае являются синонимами. Обычно словари организованы по алфавитному принципу, в «Словаре» Хоружего ключевые понятия исихастской аскезы расположены по ступеням аскетико-антропологического процесса: покаяние, невидимая брань, исихия, сведение ума в сердце, непрестанная молитва, бесстрастие, чистая молитва, созерцание нетварного Света.
Весной 1998 г. Хоружим была опубликована работа «Подвиг как органон», понятие «подвиг» взято из исихазма, «органон» — из истории философии[11]. Летом 1998 г. «Подвиг как органон» и «Словарь», снабженные общим предисловием, вышли из печати в виде отдельной книги с религиозно-философским названием «К феноменологии аскезы». Так появилась новая научная школа синергийной антропологии. Слово «синергийная» адресует нас к исихастской традиции. Большинство методологических разработок в указанной книге были связаны с вопросом: каким образом антропологу/философу изучать исихастский опыт? В ответе на этот вопрос доминировала феноменологическая методология. Книга ясно обозначала вектор: мысль автора нацелена на создание феноменологии аскезы. В книге были представлены шаги на пути к цели, отсюда и скромное название «К феноменологии аскезы».
Термин «феноменология» многозначен; в данном случае под феноменологией понимаются философские разработки, которые начал Э. Гуссерль и продолжил М. Хайдеггер. Продолжение получилось настолько новаторским, что «Бытие и время» Хайдеггера, посвященное Гуссерлю, не было признано Гуссерлем в качестве труда по феноменологии. Действительно, феноменология Гуссерля заметно отличается от феноменологии Хайдеггера. По прошествии времени можно сказать, что у Хайдеггера в «Бытии и времени» получилась особая редакция феноменологической философии с предвестниками выхода за рамки гуссерлианства. Аналогично этому и феноменологические штудии Хоружего отличаются от феноменологии Гуссерля и Хайдеггера. И это резонно, в монографии 1998 г. российскому философу пришлось феноменологически описывать исихастский опыт, который не был предметом изучения немецких философов. Так задача предметно исследовать исихастский опыт повлияла на религиозно-философский инструментарий Хоружего.
Вторая часть монографии «К феноменологии аскезы» была построена по принципу, отраженному в книге «Диптих безмолвия»: Хоружий вел диалог с исихастской аскетикой и философией. Сначала он описал внутренний органон исихастской традиции, потом внешний органон (феноменологический). Под органоном понималась, говоря кратко, организация и герменевтика религиозного опыта. Для целей нашей статьи внутренний органон не менее интересен, чем внешний, так мы отследим погружение в методологию исихазма, хотя профессор Хоружий и оговаривал: «Внутренний органон... не ставит особых методологических… целей»[12]. Исторически внутренний органон появился как фактор, связанный с самой исихастской аскезой, а не с вытекающим из нее исихастским аскетическим богословием.
Исихастскую аскезу сами подвижники называли методом: «Мы можем сказать, что в своем методологическом аспекте Традиция есть… не просто метод. Исихастский опыт есть опыт духовного процесса, в котором… осуществляется раскрытие и исполнение самой природы человека. В подобном опыте аспекты организации, проверки, истолкования должны быть особо развиты»[13]. К методологии исихастской аскезы из приведенной цитаты напрямую относится замечание об аспектах организации мистико-аскетического опыта. Аспекты организации опыта сосредоточены в разделе «Гамма» из внутреннего органона[14]. Разделы «Альфа» и «Бета» посвящены экспозиции и квалификации опыта, разделы «Дельта» и «Эпсилон» посвящены критериологии и герменевтике исихастского опыта.
Разделы помимо «Гаммы» также дают нам материал по методологии, хотя и небольшой. Кратко проиллюстрируем это. С одной стороны, С. С. Хоружий различает структуры/свойства сознания, относящиеся к самому исихастскому опыту (им посвящен раздел «Экспозиция опыта») и условия обустройства опыта (им посвящен раздел «Организация опыта»). С другой стороны, обсуждая распределение исихастского опыта на два больших концентра — делание и созерцание (πρᾶξις и θεωρία), Хоружий отмечает, что это имманентная черта самого опыта и одновременно факультативная черта способа организации опыта: «Здесь граница между собственно Опытом и Методом (обустройством, организацией, структурированием опыта) скорей условна»[15]. Подчеркнем, что в раздел экспозиции опыта Хоружий поместил тему исихастской лествицы и тему богословско-аскетической синергии, что, на наш взгляд, является небесспорным решением[16]. В разделе по критериологии опыта ставится проблема верификации исихастского опыта. И в этой связи говорится об «идентификации явления по его следствиям», что является одним из главных методологических принципов исихастского органона. Данный принцип учитывает, что ложный опыт часто приводит к тщеславию, это расценивается как порабощение человека страстью и духовная катастрофа.
Обратимся наконец к разделу по организации опыта. Начинает Хоружий с того факта, что создание условий аскетического опыта составляет основную часть исихастского органона. Это замечание методологического характера, оно относится к организации аскезы как духовного делания и в некоторой мере к организации аскетики как науки о духовном делании, о духовных упражнениях. Разумеется, мы не будем отождествлять методологию исихастской аскетики и организацию духовного опыта аскетов-исихастов, на которых строится «Подвиг как органон». В работе «Подвиг как органон» формулируются две главные задачи по организации опыта: 1) нужно обеспечить «чистый опыт», свободный от чуждых духовному процессу привнесений; 2) нужно обеспечить непрерывный опыт. Эти две методологически значимые задачи присутствуют в традиции, которая очень ценит «чистую молитву», способность «чисто каяться» (Силуан Афонский). Также исихасты ориентируются на «непрестанное покаяние» (Феофан Затворник) и «непрестанную молитву Иисусову»; считают, что лучше не начинать делание Иисусовой молитвы, чем начав, прерывать его и после пытаться возобновить. Возобновление связано с риском прелести, подвижник рискует «нечувствительно организовать и принять» мнимый опыт, похожий на прежний подлинный опыт.
С. С. Хоружий обсуждает внешние условия организации опыта не столько в связи с обстоятельствами опыта, сколько с аскетическими упражнениями. Непременным организационным условием является наличие духовного наставника, что позволяет избежать субъективности религиозного опыта. Духовно опытный наставник обеспечивает надежную герменевтику опыта, толкует религиозные переживания в соответствии с определенными критериями (критериология опыта). Еще один методологический принцип связан с проблемой герменевтики, истолкование зависит от степени общности опыта у наставника и ученика: «Для самых высоких степеней… подвижники требуют столь глубокой общности, что здесь исихастский опыт совсем не представляется менее таинственным… чем утверждают о высших духовных состояниях другие мистические традиции»[17]. Также имеют место соматические условия опыта, среди которых есть и факультативный психофизический метод. Эти соматические условия демонстрируют, что исихастская «антропология приводит к положительному аскетизму, к аскетизму не отрицающему, а преодолевающему»[18].
Внутренние условия организации опыта связаны не столько с усвоением теоретических положений, сколько с обретением определенных установок, настроенности сознания. С опорой на исихастский трактат «О трех образах внимания и молитвы»[19]даются следующие внутренние условия: жизнь по заповедям, чистая совесть, послушание и беспристрастие (не путать с бесстрастием). Более глубокие для человеческого сознания условия связаны с очищением и дисциплинированием ума: устранить рассеянность и суетливость, отказаться от самочиния, приобретать смирение, преодолевать самонадеянность[20]. Очищение ума влечет за собой открытость ума для воздействий благодати, что считается у исихастов условием продвижения в опыте. По мере духовного восхождения появляется условие стражи (хранения ума и сердца). Это связано с тем, что исихастская аскетика описывает динамические изменения человека, энергийный дискурс не предполагает самоподдерживающихся реализаций какой-либо сущности. Практика устранения образов и любого действия воображения в духовном процессе «отделяет исихазм от всех форм образно-медитативной мистики»[21]. Наряду с этим отмечается совет «возгревать чувства» (страха Божия, любви к Богу, сокрушения). Эти черты, а именно отсечение образов и возгревание чувств, не характерны для имперсональных духовных традиций. Они регистрируются в исихазме, который понимает соединение человека и Бога как общение, личную молитву, событие.
Завершается раздел организации опыта условиями профилактики и борьбы с опасностью духовного охлаждения и богооставленности, а также с опасностью прелести. Обе опасности увязаны в бинарную оппозицию, эта увязка впоследствии пересматривалась автором[22]. Необходимо оговорить еще одну деталь: проблема богооставленности со ссылкой на опыт Силуана Афонского и Софрония (Сахарова), когда Хоружий обсуждает борьбу с опасностями и профилактические меры в аскезе, представляется лишней. С. С. Хоружий обозначает две опасности: духовное охлаждение (выгорание, уныние) и прелесть (разгорячение воображения). Однако богооставленность не является опасностью, а нередко представляет собой часть домостроительства спасения для христианина. Именно так тема богооставленности понимается у Софрония (Сахарова), у Феофана Затворника и др.[23]
Заключение
Резюмируем вышеизложенные антропологические штудии на тему исихазма. Всесторонне рассматривая методологические вопросы, С. С. Хоружий отмечает, что для организации исихастского опыта необходимы:
1) внешние условия — наличие духовного наставника, соматические условия (телесное воздержание и порой использование психофизического метода);
2) внутренние условия — условия очищения и дисциплинирования сознания (устранить рассеянность, отказаться от самочиния, смиряться), условия хранения ума и сердца (в опыте безмолвия и сведения ума в сердце), условия диалога (отсечение образов и возгревание чувств), условия профилактики и борьбы с опасностями (опасность духовного охлаждения и прелести).
Теперь из выявленных нескольких условий оставим те, что характерны только для исихастского опыта и не характерны для духовных практик других религий:
1) условия хранения ума и сердца (опыт безмолвия и сведения ума в сердце, в том числе психофизический метод);
2) условия диалога (опыт молитвы без образов);
3) условия профилактики и борьбы с опасностями (предосторожности относительно опыта прелести, ложной духовности).
Таким образом, в монографии «К феноменологии аскезы», имеющей программное значение, Хоружему удалось поставить важные вопросы об организации исихастского опыта и отрефлексировать условия, в которых этот опыт был получен. Причем это новаторское религиозно-философское исследование было снабжено достаточно репрезентативными ссылками на исихастские первоисточники. Монография «К феноменологии аскезы» осуществила результативное погружение в методологическую проработку исихастской аскетической антропологии. Впоследствии С. С. Хоружий лишь иногда возвращался к методологической проблематике, но и эти эпизоды также заслуживают внимания, они могут составить предмет отдельного научного обсуждения.
Список литературы
1. Аристотель. Метафизика / пер. А. В. Кубицкого. М. ; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1934. 348 с.
2. Бальтазар Г. У. фон. Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника. М.: Познание, 2021. 320 с.
3. Исихазм: аннотированная библиография / под ред. С. С. Хоружего. М.: Издат. совет Русской Православной Церкви, 2004. 911 с.
4. Лосский В. Н. Боговидение. М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 1995. 125 с.
5. Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия / под общ. ред. С. С. Хоружего. М.: Изд-во Ди-Дик, 1995. 366 с.
6. Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание христианского нравоучения. Т. 1. М.: Паломник, 1994. 253 с. (Первая пагинация.)
7. Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте / под ред. С. С. Хоружего. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 928 с.
8. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad marginem, 1997. 451 с.
9. Хоружий С. С. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. М.: Центр психологии и психотерапии, 1991. 135 с.
10. Хоружий С. С. Исследования по исихастской традиции. В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. акад., 2012. 448 с.
11. Хоружий С. С. Исследования по исихастской традиции. В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. акад., 2012. 240 с.
12. Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманит. лит., 1998. 352 с.
13. Хоружий С. С. Подвиг как органон // Вопросы философии. 1998. № 3. С. 35–118.
14. Хоружий С. С. Проблема постчеловека, или Трансформативная антропология глазами синергийной антропологии // Философские науки. 2008. № 2. C. 10–31.
15. Хоружий. С. Опыты из русской традиции. М.: Ин-т св. Фомы, 2018. 647 с.
16. Aristotle’s Methaphisics / A Revised Text with Introduction and Commentary by W. D. Ross. Vol. 2. Oxford: The Clarendon Press, 1924. 528 p.
17. Hausherr I. Hésychasme et priére / Orientalia Christiana Analecta. № 176. Roma: Pontificium Institutum Orietalium Studiorum, 1966. 306 p.
18. Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967. 437 s.
Источник: Богослов.ru
[1] Антропологическую насыщенность исихазма отмечал католический теолог И. Осэрр в работе «Исихазм.
[2] Имяславские воззрения не были близки С. С. Хоружему.
[3]Хоружий С. С. Исследования по исихастской традиции. В 2 т. Т. 2. Многогранный мир исихазма. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. акад., 2012. С. 372.
[4] Хоружий. С. Опыты из русской традиции. М.: Ин-т св. Фомы, 2018. С. 503–520; Он же. Проблема постчеловека, или Трансформативная антропология глазами синергийной антропологии // Философские науки. 2008. № 2. C. 13–14.
[5] Он же. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении. М.: Центр психологии и психотерапии, 1991.
[6] Бальтазар Г. У. фон. Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника. М.: Познание, 2021. С. 213–214.
[7] Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия / под общ. ред. С. С. Хоружего. М.: Изд-во Ди-Дик, 1995. С. 42–150.
[8] Хайдеггер по поводу Dasein оставил формулировку, похожую на звукопись: «Титул “присутствие”
[9] Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad marginem, 1997.
[10] Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманит. лит., 1998. С. 198, 204.
[11] Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте / под ред. С. С. Хоружего. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 55; Хоружий С. С. Подвиг как органон // Вопросы философии. 1998. № 3. С. 35–118.
[12] Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. С. 237.
[13] Там же. С. 192.
[14] Внешний органон не содержит раздела «Организация опыта», потому что феноменологический внешний
[15]Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. С. 224.
[16] Там же. С. 250.
[17] Там же. С. 260–261. Сформулированный у Хоружего принцип приводится в разделе по критериологии (внешний органон).
[18] Лосский В. Н. Боговидение. М.: Изд-во Свято-Владимирского братства, 1995. С. 117.
[19] Трактат цитируется С. С. Хоружим в переводе А. И. Сидорова (буквальный перевод с древнегреческого текста, опубликованного в 1927 г. И. Осэрром), а не в переводе Феофана Затворника.
[20] Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. С. 229–230.
[21] Там же. С. 233.
[22] Из версии 2012 г. изъят абзац, который в версии 1998 г. был поставлен в скобки и иллюстрировал становление синергийных структур «в определенном диапазоне “обобщенной температуры” духовного процесса» (Хоружий С. С. Исследования по исихастской традиции. В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. акад., 2012. С. 160). Условия духовного процесса говорят о теплоте внутри сердца, тогда как богооставленность характеризуется метафорой охлаждения, а прелесть, напротив — метафорой разгорячения (Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. С. 236). Такое решение обосновано: церковно-славянское слово «теплый» означает «горячий», а русскому понятию «теплый» соответствует славянское слово «теплохладный». Опыт молитвы приводит к ощущению исихастом благодатной «теплоты», т. е. жáра в сердце.
[23] Феофан Затворник, опираясь на слова Диадоха Фотикийского, говорит про «научительное отступление благодати», которое смиряет человека, «оставляет его без всякой помощи со своей стороны, когда… восстают помыслы», в этом проявляется принцип синергии [6, c. 239 (первая пагинация)].
Картинка для анонса: Array
Количество показов: 743
Теги: